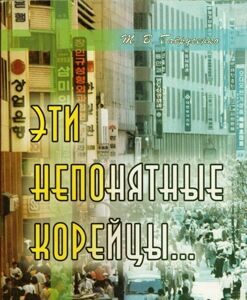|
Обновлено 29.07.2018 00:38
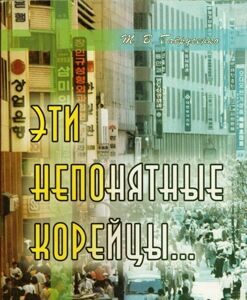
Никогда мы не будем братьями?
31 марта 2015 • 1 447 просм. • Политика • КИМ, Татьяна Габрусенко


Татьяна Габрусенко
Чужие
Как-то в толчее коридора университета Корё мое внимание привлекла группа людей. Вроде ничего особенного в них не было, корейцы как корейцы, одеты вполне обычно. Однако было в них что-то такое, что резко выделяло их из толпы. Когда я зашла на кафедру, группа была уже там. Оказалось, это представители какой-то организации северокорейских беженцев пришли встретиться с профессором Н.
Теперь я смогла разглядеть их поближе. От обычных южнокорейцев гостей отличал плохой цвет лиц, худосочность, жилистость. Но главное даже не это, а какая-то непонятная приниженность, которая заставляла вспомнить некрасовских ходоков из деревни, пришедших на поклон к городскому барину.
Жертвы режима? Но в Пхеньяне люди выглядят иначе. Физически точно такие же, худые и темнолицые, там они ведут себя со спокойным достоинством. Во время голода конца девяностых, западные волонтеры жаловались, что даже голодные дети отказывались брать у них из рук еду: «Я сыт, мне ничего не надо».
Северяне же в Сеуле выглядят жалкими приживалами. Робость, заискивающие улыбки, подобострастные поклоны, переслащенные комплименты.
Вообще говоря, в ежедневной рутине Южной Кореи ритуальных принижений гораздо больше, чем в КНДР. Все-таки страна куда более конфуцианская, и кланяться старшим здесь детей до сих пор приучают с малолетства. И все-таки для большинства южнокорейцев эти поклоны больше похожи на ролевую игру, участники которой вполне понимают ее игровую сущность. У студента, который кланяется тебе чуть ли не в пояс, уверенные глаза. После того, как он тебе достаточно откланяется, он может пошутить с тобой, как равный.
А в преувеличенной, подобострастной вежливости северян постоянно присутствует какой-то внутренний надлом и неадекватность. За ней чувствуются отчаянные попытки вписаться в общество, которое формально приняло тебя в свои ряды, но не желает принимать в свой душевный круг. Оно тебя просто обтекает, как река валун посередине.
Среди докторантов нашего факультета есть две беженки. С профессиональной точки зрения, это клад. Живые источники, которые ходят рядом и денег за интервью не просят. Однако профессора и студенты избегают общения с ними. Однажды на кафедральной вечеринке, когда народ уже хорошенько расслабился, одна из беженок решила поддержать общее веселье и спеть классическую северокорейскую песню про соотечественников «Мы вам рады». Пела она хорошим голосом, и песня была хорошая, но… В ее пении было столько льстивой угодливости, что люди хлопали и при этом отводили глаза.
…Коллоквиум, организованный профессором К. по теме северокорейских исследований. К. – яркая, темпераментная женщина, фанат своего дела, и сама провела подробнейшие опросы более сотни беженцев по разным аспектам северокорейской экономики, и собрала выступающих себе под стать. Среди докладчиков – перебежчица, с довольно толковым выступлением. Перерыв на обед, во время которого люди продолжают обмениваться мнениями, смеяться… Перебежчица сидит отдельно, перебирая листки с набросками уже сделанного выступления. С ней никто не разговаривает. Профессор, случайно пройдя мимо, бросает ей фразу на панмале – фамильярной речевой форме, немыслимой в академической обстановке.

Очередная группа северокорейских беженцев прибыла на Юг
О том, что южнокорейское общество внутренне отталкивает беженцев, которые на бумаге считаются полноценными гражданами Южной Кореи, написано много. Хорошо известно о дискриминации северян при приеме на работу, о том, что большинство из них пытается скрыть свое происхождение. Плохо приходится детям перебежчиков в южнокорейских школах, где их часто презирают одноклассники: за физическую слабость, за незнание английского, за малый рост.
Сочувствующие исследователи обычно винят соотечественников, связывая их глубинное недоверие к северянам со снобизмом и ксенофобией, традиционным для Кореи неприятием чужаков и представителей других общин.
Конечно, как всегда в случаях фракционных трений, оппонентов не любят не просто так, а за какие-то определенные приписываемые или реальные качества. На бытовом уровне, северные корейцы воспринимаются некими сельскими пентюхами, о которых можно говорить только с легкой насмешкой. Считается, что северяне хуже образованы, менее вежливы, менее дисциплинированны. У них не слишком хорошие манеры, они больше склонны к бытовой агрессии и насилию в семье. У них смешной язык, над которым любят поприкалываться ведущие юмористических передач. Скажу сразу – эти представления не вполне беспочвенны. Более 60 процентов перебежчиков – это выходцы из приграничной провинции Хамгён, которая в культурном плане является не самой продвинутой в КНДР.
Многие южане недовольны теми объемами помощи, которая за счет их налогов предоставляется перебежчикам. Так, соседка профессора К., бедная старушка, одна воспитывающая осиротевшую внучку, пришла в ярость, узнав, что северяне, оказывается, могут бесплатно учиться в некоторых южнокорейских университетах. Сама она такой роскоши от государства не добьется, и ее внучка в университет пойти не сможет.
Как всегда, трава на соседском пастбище кажется зеленее, и размеры помощи беженцам, и сами по себе значительные, в массовом сознании приобретают космические масштабы. Южнокорейское общество вообще не склонно к левацкой халяве и к любым социальным программам относится настороженно. В перебежчиках здесь видят наглых нахлебников – примерно так в советское время в очередях воспринимали ветеранов ВОВ.
Единожды предавшие?
Однако, помимо этих, в общем-то, обычных предубеждений и претензий к пришлым чужакам, существует на Юге и более глубинное и специфическое отторжение северян. Его нечасто проговаривают, потому что это отторжение находится в непримиримом противоречии с идеологией «единой Кореи». По официальной версии, перебежчики, открыто порвавшие с коммунистическим Севером и прильнувшие к груди истинной Кореи, являются стопроцентно своими. На деле же, большинство южнокорейцев, при всем их страхе и ненависти к Северу, не доверяют людям, прошедшим такую трансформацию. Кто-то видит в перебежчиках шпионов. Но гораздо больше людей не доверяет им именно потому, что считает такую трансформацию настоящей – и потому подозрительной.

Ким Сонмин бежал с Севера в 1997 году, в 2004 году основал радио «Свободная Северная Корея», пропагандист и активист борьбы за права человека в КНДР. Отвечая как-то на вопрос о своем отношении к самым невероятным слухам, которые порой распространяются о происходящем на Севере, Ким выразился в том смысле, что любые истории – правдивые или нет – хороши, лишь бы они не выставляли Север в выгодном свете.
Большинство северян бежит, оставляя дома семьи, детей, подставляя режиму своих родных. Можно ли доверять тому, кто единожды предал, кто отрекся – пусть даже в наших интересах?
«Ваш муж предал свою семью, своих родных, свою страну. Какое к нему может быть доверие», – такой упрек бросил однажды южнокореец моей знакомой С., немецкой жене перебежчика.
Упрек этот, доведший С. до слез, был не только жесток, но и несправедлив. Муж ее, по имени Ч., был поставлен перед страшным выбором. Он должен был выбрать либо своих родителей в Пхеньяне, либо свою тайную семью, которую завел во время стажировки за границей, С. и их общего маленького ребенка. Он бежал, чтобы воссоединиться с С. и дочерью. Бежал, чтобы спасти и свою жизнь – связи с иностранцами в КНДР карались тогда, в восьмидесятые, жестоко.
Понятно, что выбор Ч. был вынужденным. Бежал он, будучи отпрыском благополучной элитарной семьи из Пхеньяна, и не в Южную Корею, а в одну из стран Европы, где ему не полагалось никаких благ. Вынужденным был и выбор тех, кто бежал за границу во время голода в 1990-е годы. Но большинство нынешних северян уходит из общества довольно стабильного и не очень голодного. Бегут почти как обычная экономическая, «колбасная» эмиграция: за более удобной жизнью, за более вкусным куском. Стоит ли это, рассуждает южнокореец, того, чтобы предать родных, отречься от страны? И если завтра такого человека поманит еще кто-то более богатый, не предаст ли он точно так же Южную Корею?
К сожалению, этому рассуждению нельзя отказать в логике. Северяне – люди разные, с разными обстоятельствами. Но, действительно, среди них много таких, кого не пригласишь к себе в дом, не спрятав предварительно серебряные ложечки. В своей книге «This is paradise» («Это рай») перебежчик Кан Хёк, бежавший во время голода 1998 года, признает честно и грустно, что перебежчики, включая его самого, не являются лучшей частью северокорейского общества. Лучшие, рассуждает он, погибли в самом начале. Убегали же те, кто привык нарушать общественные нормы в самом разном виде – от банального воровства до жестокости, эгоизма, подлости.
Любимый мой пример – это господин Ким, неудачливый художник, который вынужден был работать учителем рисования в провинциальной северокорейской школе. Я пыталась расспросить этого представителя интеллигенции о том, какой фильм, на его взгляд, пользовался в КНДР наибольшим массовым успехом. В ответ Ким начал тираду о злокозненном режиме, который душит в зародыше все прогрессивное. И мысль, которую, как он настаивал, мне надо в связи этим фактом обязательно донести до моего читателя – это что США должны срочно начать войну против Северной Кореи. Для ее же собственного блага. О том, что в ненавистной стране у Кима остались брошенные дети, он как-то забыл.
Ким показал мне некоторые из своих работ – цветы и птицы, выполненные в традиционной манере. Я не берусь судить о качестве техники, но могу точно заверить, что сюжет их далек от бунтарского новаторства. Подобными цветами и птицами полны все художественные выставки КНДР.
Характерно, что и в Южной Корее работы Кима опубликованы не были. А ведь, по сведениям А. Ланькова, много работающего с беженцами, северокорейские перебежчики из числа художников обычно прекрасно устраиваются по специальности. Северокорейское художественное образование, с его упором на классическую технику рисования здесь ценится. Господин Ким же трудится на ниве журналистики на северокорейские темы.

Пак Ёнми бежала с Севера в 2007 году. Активистка борьбы за права человека на Севере. Выступает на эту тему с лекциями, а также в ток-шоу и других телевизионных программах.
Много среди перебежчиков и молодых женщин, бросивших на Севере малолетних детей и не собирающихся забирать их оттуда. Они бегут, планируя создать новые семьи здесь – с новыми мужьями и… новыми детьми. Для меня лично такие женщины – самая трудная категория людей, у которых берешь интервью. Не всегда срабатывает напоминание себе христианской заповеди «не суди». Я начинаю думать о том, какими идиотами должны быть новые мужья этих женщин. Ведь они впускают в свое личное пространство людей, которые гарантированно сдадут их в случаях потери работы, тяжелой болезни. Не говоря уже о том, что многие из беженок занимались в Китае проституцией, прежде чем попасть на Юг.
Понятно, что и этот естественный отбор навязала северянам жизнь, или режим Кимов – кто как считает. Но результат остается тем же. И с этим результатом южанам теперь приходится существовать бок о бок.
Но, повторяю, таковы не все беженцы. Есть и такие, кто перебежал всей семьей, кто вытянул родителей. Кто и сейчас не льет грязь на бывшую родину. Так что заповедь «не суди» остается в силе.
Между Сциллой и Харибдой. Гетто или растворение?
О том, что думают беженцы по поводу южан, узнать сложнее. Они не склонны откровенничать на эту тему. Само их положение пришлых, новичков, сирот-приживал в богатом доме не располагает к этому. Правда, самые продвинутые уже начали спекулировать на левацкой идеологии южнокорейской науки и с удовольствием дают интервью о дискриминации, которой они подвергаются на юге. Понятно, что на общественное мнение Южной Кореи эти интервью с перечислением разнообразных претензий к новой родине оказывают самое негативное влияние. «Мы приняли этих голодранцев, мы их кормим, мы им даем бесплатное образование – так они еще и недовольны?» – возмущается южнокорейский обыватель, и его раздражение трудно счесть несправедливым.
Из некоторых источников, вроде журнала для перебежчиков «Тонпхо саран», можно реконструировать картину внутреннего ощущения беженцев на Юге. Картина это сложная, полная больных противоречий. Признавая правоту критики южан в отношении КНДР, будучи благодарными за те блага, которыми осыпает их новая родина, беженцы, тем не менее, бессознательно сопротивляются навязываемому им растворению в океане южнокорейской идентичности. Они ведь знают о родине не только плохое. Да только на рассказы о хорошем – негласный запрет. И потому жизнь перебежчика – это попытка проплыть между Сциллой и Харибдой, с одной стороны, полной ассимиляции, и с другой стороны, геттоизации. Ассимиляция грозит культурной амнезией, вечной вторичностью, вечным унижением, когда ты, из страха не вписаться, поддерживаешь дикие сплетни о Севере и работаешь шутом в юмористических передачах. Гетто же по типу Брайтон-бича в США, с его удалением в свой собственный мир кукурузной лапши и колбасы сундэ из шести сортов мяса, с его тайным шизофреническим противопоставлением себя людям, среди которых тебе жить до конца дней, по твоему же выбору – это изоляция, это дорога в никуда.
Северяне в РК слишком слабы, слишком уязвимы, чтобы самим разрешить это вечное противоречие иммигрантов. Им нужна помощь новых соотечественников. Что же могут сделать они?
Наверное, самым правильным, самым гуманным был бы путь признания специфики Севера и иной идентичности беженцев. Признание отдельной ценности их культуры без агрессивного противопоставления культуре южной. И – усилия по встраиванию этой отдельной культуры в единую культуру Кореи.
Работа это долгая и трудная, требующая пересмотра многих установок, реального знания Севера и истинного интереса к северянам. И конечно, это работа филигранная, требующая выдерживать тонкую грань между признанием феномена северной культуры и недопустимым потворством враждебной идеологии.
Но только такая работа поможет северянам и южанам снова стать братьями.
Источник: https://vmeste.kr/index.php/community/294-nikogda-my-ne-budem?ckattempt=1
Русская школа за рубежом: инструмент «Мягкой силы»?
1 сентября 2020 • 644 просм. • Политика • Татьяна Габрусенко

Российскую школу принято критиковать за бесконечные реформы и пресловутое ЕГЭ, но она даёт весьма качественное системное классическое образование, оставаясь наследницей той самой прусской гимназии, из которой когда-то выросли её предшественники – школы Российской Империи и СССР. Это делает её мощным инструментом «мягкой силы» за рубежом. Однако чтобы эта «мягкая сила» работала, недостаточно просто оказывать финансовую и лицензионную поддержку частным русским школам за рубежом.

ТАТЬЯНА ГАБРУСЕНКО
Профессор Университета Корё, Южная Корея.
Сразу скажу: решение сменить образовательную тактику (англоязычная школа – университет) и перейти в школу при посольстве РФ в Республике Корее было для нашей семьи вынужденным. Первый наш ребенок благополучно проследовал путём англоязычного образования в Австралии, а вот со вторым произошла заминка. Мы переехали в Корею, и беспроблемный австралийский детский сад сменился американским садиком, а потом и американской школой в Сеуле – по местным меркам, хорошей, третьей по дороговизне в стране.
Американская школа в Корее
Из простодушного мира эгалитарной Австралии, с её всеобщими резиновыми шлепанцами, наша пятилетняя девочка вдруг попала в мир мажоров из числа потомков корейских недоолигархов – это основной контингент дорогих англоязычных детсадов и школ в Корее. Перед нами раскрылись прелести этого социального слоя во всей их поганой наготе.
Детские распальцовки на темы «моя мама весит 48 кг, а твоя мама 53, и поэтому лузер», «моя мама шопится в Париже, а твоя мама, как лох, работает прокурором области», «я не сяду с ней за одну парту, она кроссовки New Balance – отстой! – носит», «хорошо учатся лохи, а меня выдадут замуж за богатого». Откровенный расизм по отношению ко всем без исключения некорейским одноклассникам (нас ещё относительно спасала европейская внешность, самый ад устраивался индийцам и африканцам). Зашкаливающая наглость по отношению к учителям и родителям, швыряние рюкзаков в лицо личным шофёрам, безропотно таскающим эти рюкзаки за юными господами. Заискивающая беспомощность всех этих бедных, запуганных учительниц мексиканского или канадского происхождения перед богатыми сопляками, от которых зависела их работа (для преподавателей-американцев Корея не является желанным местом, редкие из них задерживались в школе).
Жизненные цели контингента вполне прозрачны – потусоваться в школьные годы среди своих, потом поступить в какой-нибудь дизайнерский колледж, выйти замуж за своего и уехать в Калифорнию. Уровень образования школы вполне соответствовал этим задачам. Учительницы писали с грамматическими ошибками и утверждали, что у женщин рёбер больше, чем у мужчин, потому что так написано в Библии. На стендах с информацией о жизни школы не было ни одного фото учащегося ребенка – все они плавали, танцевали и обедали на пленэре.
Общение с родителями из других американских школ в Корее показало, что всё вышеуказанное не является частной особенностью нашей школы. Это системная проблема с печальными корреляциями: в школах более дешёвых образование ещё хуже, в школах более дорогих – дети ещё наглее.
Школа при посольстве РФ
После очередного столкновения с этим миром-антиподом у нас с мужем вдруг синхронно родилась мысль: «А может быть, отдать её в русскую школу? Хуже уж точно не будет». К счастью, дочь, родившаяся и выросшая в Австралии, русский язык знала хорошо. К тому же в Корее она посещала занятия на дому у русской учительницы, которая преподавала программу российской начальной школы небольшой группе детишек. Нас удивляло, что дочь, обучаясь в школе самого разгильдяйского образца, с удовольствием выполняла все домашние задания этой группы, без малейшего нажима с нашей стороны выписывая старомодные палочки и заучивая стихи. Предложение перейти в русскую школу на постоянной основе она встретила с нескрываемой радостью.
Оказалось, что не мы одни такие умные. Многие наши соотечественники годами стояли в листе ожидания в посольскую школу. Но нам повезло – в третьем классе место оказалось, и я отправилась подавать документы.
Когда я подходила в посольской школе, из нее выходили две незнакомые русские девочки лет двенадцати: милые личики, аккуратно причёсанные головки. «Здравствуйте», – сказали они мне и пошли дальше. Стыдно признаться, но у меня на глазах выступили слезы. За годы пребывания моего ребёнка в корейско-американской среде я уже привыкла, что дети ходят лохматыми, в мятой униформе и не здороваются вообще, даже если накануне были в гостях у вас дома. И вдруг оказалось, что это не мы с мужем – отсталые люди, не врубающиеся в современные реалии: нормальные дети существуют и даже говорят на нашем родном языке.
А потом началась учёба. И мы увидели, как расцветает наша дочка, – среди нормальных людей и нормальных человеческих ценностей. Где рядом учатся русские, корейцы, болгары, казахи, узбеки, белорусы, и никому не приходит в голову травить человека за другой цвет кожи. Где однокласснице-южнокореянке, плохо владеющей русским, принято помогать, и это происходит совершенно естественно, без завываний о «мультикультурализме» и «межнациональной толерантности». Где есть, как в любом обществе, разные отношения детей, с кем-то они ближе, с кем-то прохладней, бывают личные ссоры и недовольства, но нет и намека на групповщину и травлю.
Где можно спокойно подъезжать к воротам на старенькой машине, не рискуя поставить своего ребёнка в неловкое положение, и с тобой будут так же приветливо здороваться идущие в школу дети.
– Тебе не нужны новые кроссовки? – спрашивала я, приученная покупать новую брендовую обувь каждые два-три месяца (униформа не позволяла детям в американской школе выпендриваться другим способом, и я – увы – поддавалась общему давлению).
– Да зачем, мне этих достаточно. У нас здесь на это внимания не обращают.
Зато обращают внимание, оказалось, на другое – кто как учится. Учиться в школе принято хорошо, и в этом, конечно, заслуга педагогов и общей деловой, рабочей атмосферы школы, куда ходят не тусить, а трудиться.
Среди учителей посольской школы нет ни приверженцев каких-то особо продвинутых педагогических методик, ни искрящихся оригинальностью персоналий, которых в изобилии представлял когда-то советский кинематограф. Работают в школе хорошие специалисты, чётко знающие своё дело и добросовестно его выполняющие.
Кто-то ведёт себя с детьми помягче, кто-то построже, кто-то нравится больше, кто-то чуть меньше, но все вместе они работают как отлично отлаженный механизм. Окончание командировки одного хорошего учителя означает, что на смену ему придёт другой, ничуть не хуже.
Нашей дочери, подуставшей от вечных фейерверков американской школы (то кувыркаемся на полу, то поём в парке на скамейке, то свободная дискуссия, то неделя спорта – что угодно, лишь бы не учиться), спокойная планомерность учебного процесса в русской школе подошла как нельзя лучше. А мы не переставали удивляться тому объёму и систематичности знаний, которые девочка усваивает в процессе учёбы, сколько уже знает по математике, биологии, истории. Наша старшая дочь, бывшая круглой отличницей в хорошей австралийской школе, в школьные годы не могла и мечтать о таком кругозоре.
Знакомые выпускники посольской школы массово поступали на бюджет в лучшие московские университеты, и это добавляло дочери учебного энтузиазма.
Мы опасались, что девочка забудет английский из-за отсутствия ежедневного англоязычного общения. Однако она не просто сохранила, но и улучшила его при помощи занятий по скайпу с носителем языка. Её мексиканские учительницы и корейские одноклассницы говорили гораздо хуже.
Поначалу я волновалась, сможет ли ребенок, привыкший к демократическим манерам западной школы, со всеми этими учительскими улыбочками («дай пять!», «давай обнимемся!») и постоянному одобрению, адаптироваться к внешней сдержанности и открытой субординации русской школы, где учитель стоит выше ученика и двоечник не равен отличнику. Оказалось, что проблемы просто нет. Дочь понимала неформальную субординацию западной среды гораздо лучше нас, принимала её как данность, и субординация русского образца совершенно не оскорбляла её достоинства. Она легко встроилась в этот новый для неё мир и приняла его правила.
Все эти годы мы не прекращали благодарить судьбу за то, что она привела нас в русскую школу. К сожалению, из-за пандемии посольскую школу временно закрыли для тех, кто не живёт в посольстве, и когда она будет открыта, неизвестно. Школа небольшая, и наладить дистанционное обучение всех желающих не представляется возможным.
Мы очень надеемся туда вернуться, а пока собираемся обходиться российским онлайн-обучением. Возвращаться в американскую школу дочь отказывается наотрез.
Несколько мыслей вслед
Несмотря на то, что англоязычное образование очевидно господствует в современном мире и противопоставить ему вроде бы нечего, ибо против лома, то есть американского ВНП, нет приёма, ситуация, на самом деле, сложнее. Многие наши соотечественники проживают в странах, где англоязычное образование либо недоступно, либо некачественно, а с образованием на местном языке имеется множество проблем.
Южная Корея является одной из таких стран. Образование в местных школах здесь неплохое. Однако, несмотря на многолетние разговоры о «мультикультурализме», корейская школьная среда остаётся одной из самых закрытых и дискриминационных для иностранцев. Если в начальной школе положение иностранного ребенка ещё терпимо, то начиная класса с пятого иностранные дети начинают подвергаться выталкиванию из корейской среды. От этого не спасает ни свободное владение корейским языком, ни корейская этничность, ни искренняя нацеленность твоей семьи на ассимиляцию, ни приличное материальное положение. Тебя отторгают, как инородное тело.
Для родителей это внезапное социальное отторжение ребенка, который ещё вчера бегал во дворе с корейцами, а сегодня вдруг приходит с синяками и просиживает вечера дома, играя с собачкой, является шоковым, болезненным открытием. Многие из них пытаются игнорировать проблему, выхода из которой не видят, или искать причины в поведении самого ребенка.
А причин нет. Два чудовищных происшествия последних лет: с полукорейским-полурусским ребенком, которого корейские одноклассники сбросили с 15-го этажа за «некорейскую внешность», и узбекским мальчиком, попавшим в больницу после избиения одноклассниками, – показывают, что корейская школа опасна для иностранцев просто потому, что они иностранцы.
Для большинства членов русскоязычной общины выходов из этой ситуации нет. Англоязычная школа, ко всем её минусам, ещё и заоблачно недоступна: ежегодная стоимость нашей «третьей по стране» равнялась стоимости хорошего автомобиля. И вот здесь очень может помочь русская школа. Она обладает достоинствами, которые в России пока мало осознают.
Во-первых, российская школа остаётся территорией, свободной от национальной дискриминации. Твоя этническая принадлежность здесь никого не интересует. Если ты уважаешь окружающих, готов соблюдать общие правила, не создаёшь национальных банд и не пытаешься навязывать свою религию, тебя примут как своего.
Во-вторых, качество образования. Российскую школу принято критиковать за бесконечные реформы и пресловутое ЕГЭ, однако она даёт весьма качественное системное классическое образование, оставаясь наследницей той самой прусской гимназии, из которой когда-то выросли её предшественники – школы Российской Империи и СССР.
На английском языке подобное образование сегодня доступно только элите, стоит дорого и есть далеко не везде. В Канберре, где училась наша старшая дочь, такое образование невозможно получить в принципе, ни за какие деньги. Надо сказать, что немалую роль в её академических успехах в школьные годы играли те русские учебники, по которым мы с ней дополнительно занимались примерно до шестого класса.
Всё это делает русскую школу мощным инструментом «мягкой силы» за рубежом среди соотечественников и иностранцев.
Чтобы эта «мягкая сила» работала, однако, недостаточно просто оказывать финансовую и лицензионную поддержку частным русским школам за рубежом. В Южной Корее такие школы существуют и не пользуются особой популярностью: при всём энтузиазме и старании, отдельные предприниматели за границей просто не могут создать образовательных учреждений должного уровня, таких, чтобы родители могли доверить им будущее своего ребенка.
Чтобы родители за рубежом могли со спокойной душой отдать ребенка в русскую школу, это должна быть не невнятная частная лавочка, где преподают случайные гастарбайтеры, а качественная, государственная, организованная РФ школа при посольствах, консульствах или поддерживаемых государством центров русской культуры. Работать в ней должны дипломированные педагоги, специалисты, отобранные и командированные из России.
На базе подобных школ можно было бы создавать и дополнительные образовательные курсы, действующие в вечернее время – для тех русскоязычных детей, кто ходит в местные школы, однако хотел бы заниматься по российской программе русским языком, физикой, математикой или историей. Если бы подобная возможность существовала в Канберре, когда там училась наша старшая дочь, мы бы ей с удовольствием воспользовались. Но – увы! – вместо этого она ходила учиться во французский культурный центр.
Кроме того, у России за рубежом есть стойкая позитивная репутация в таких областях, как информатика, спортивные танцы, гимнастика, музыка. Многие иностранные родители наверняка воспользовались бы возможностью поучить своих детей у «настоящей русской пианистки» или «русского программиста».
По эффективности воздействия на человека мало общественных институтов могут сравниться со школой.
Если привлечение на свою сторону соотечественников является задачей России, то создание сети качественных государственных русских школ за рубежом – вернейший шаг в этом направлении. Ребятишки, которые сегодня спешат к воротам посольства на урок русского языка, когда-нибудь поработают на благо России.
***
Источник: globalaffairs.ru/articles/russkaya-shkola-myagkaya-sila/
|